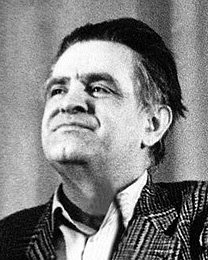«Сочинение по творчеству Фазиля Искандера»
Сочинение
Значение карнавальной традиции для поэтики Фазиля Искандера (род. 1929) подробно обсуждается в монографии Н. Ивановой «Смех против страха, или Фазиль Искандер» (1990). По наблюдениям критика, Искандер воссоздает в своих текстах прежде всего праздничный, пиршественный, аспект карнавального гротеска: в его прозе постоянны сцены пиров и застолий, его сквозной герой одновременно великий плут и великий тамада. Несколько раз у Искандера встречается сцена веселой смерти, как, например, в рассказе «Колчерукий», где умерший острослов умудрился подшутить нас своим извечным соперником и после смерти. «Жизнь бьет через край, не удовлетворенная обычным стандартом. Торжествуют цветение и роскошь телесного (…) Веселая праздничность жизни смеется над смертью, над болезнью, побеждая и укрощая их», – пишет критик25.
Но, как и у Алешковского и Войновича, карнавально праздничный мир народной жизни у Искандера разворачивается на фоне самых мрачных десятилетий советской истории. Совмещение исторического плана с разомкнутой в вечность стихией народного пиршества и создает гротескный эффект.
Искандер начинал как поэт, но славу ему принесла опубликованная в «Новом мире» повесть «Созвездие козлотура» (1966). Написанная как сатира на непродуманные хрущевские реформы (кукуруза, разукрупнение хозяйств, освоение залежных земель и т. п.), она переводила конкретный социальный сюжет в более широкий план: фикциям «тотальной козлотуризации», демагогическим фонтанам и карьерным упованиям, бьющим вокруг нелепой идеи скрестить горного тура с домашней козой – противостояли простые и надежные реальности: море, красота девушек, воспоминания о детстве, доброе застолье, здравый крестьянский опыт, дедовский дом в Чегеме, наконец, закон природы, повинуясь которому несчастный козлотур яростно разгоняет предлагаемых ему коз. Гипноз формулировок, политическая кампанейщина, власть «мертвой буквы» (говоря словами Пастернака) – все это оказывается смешной нелепицей, упирающейся в категорическое нежелание козлотура «приносить плодовитое потомство»: «Нэнавидит! – сказал председатель почти восторженно… Хорошее начинание, но не для нашего климата!» В сущности, Искандер доказывал себе и читателю, что все фантомные построения идеологии и власти в конце концов не могут не рухнуть, ибо им противостоят куда более устойчивые силы – природа и сама жизнь. Искандеровский оптимизм звучал как несколько запоздавший отголосок молодежной прозы, исполненной веры в «неизбежное торжество исторической справедливости». Оптимистическая вера во всесилие жизни, рано или поздно сокрушающей власть политических фикций, сохраняется и в цикле рассказов о Чике, и в примыкающей к нему повести «Старый дом под кипарисами» (другое название «Школьный вальс, или Энергия стыда»). Здесь естественный ход жизни с ее праздничностью и мудростью воплощен через восприятие центрального героя – мальчика Чика. Однако в этих произведениях гротеск обнаруживается в том, как ложные представления проникают в сознание «естественного» героя («Мой дядя самых честных правил», «Запретный плод»), как трудно усваивается отличие между «внеисторическими ценностями жизни» и навязываемыми эпохой фикциями («Чаепитие и любовь к морю», «Чик и Пушкин»), как интуитивно вырабатываются механизмы парадоксальной защиты от «хаоса глупости» и абсурда («Защита Чика»), как постепенно, через непоправимые ошибки и муки стыда, приходит умение «понимать время» («Старый дом под кипарисами»).
Самое сложное соотношение между историческими химерами и вековечным укладом жизни обнаруживается в центральном произведении Искандера, которое он начал писать в 60-е, а закончил уже во второй половине 80-х – цикле «Сандро из Чегема». Эту книгу нередко называют «романом» (сам Искандер и Н. Иванова) или даже «эпосом» (Ст. Рассадин). Однако перед нами несомненно цикл и далеко не слишком стройный26. Интересно, что фактически каждая из новелл, входящих в цикл представляет собой типичный «монументальный рассказ», состоящий из нескольких микроновелл, варьирующих основной сюжет. Так действительно создается эпическая доминанта цикла (что вновь сближает Искандера с Войновичем и Алешковским). Впрочем, когда в центре рассказа нет эпического характера или эпического события, эта жанровая структура быстро опустошается, вырождаясь в слабоорганизованный набор тематически сходных или, наоборот, ни в чем не сходных, но цепляющихся друг за друга анекдотов. (Этим, на наш взгляд объясняется художественная неудача таких рассказов, как «Дядя Сандро и конец козлотура», «Хранители гор, или Народ знает своих героев», «Дороги», «Дудка старого Хасана»).
Однако парадокс искандеровского цикла состоит в том, что эпический сюжет, построенный вокруг коллизии «народный мир в эпоху исторического безумия», движется по двум параллельным, но противоположно направленным руслам: дядя Сандро, благодаря своему легендарному лукавству, не только легко проходит через всевозможные исторические коллизии (тут и общение с царским наместником в Абхазии – принцем Ольденбургским, и гражданская война, и встречи со Сталиным, вплоть до хрущевских затей и «застойных» торжеств), но и, как правило, извлекает из них немалые выгоды для себя, в то время как те же самые исторические коллизии практически всем его родным и близким (начиная с его собственного отца и кончая любимой дочерью) несут страдания, утраты и подчас гибель. Почему Искандер выбрал на роль центрального героя не крестьянского патриарха, к примеру, не отца Сандро – старого Хабуга, основателя Чегема, одного из тех, на ком земля держится, и не чегемского Одиссея Кязыма? Почему центральным героем Искандер сделал пройдоху и хронического бездельника («Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать этого несчастного сада, который он сторожил три года, если я не ошибаюсь?»), всегда присматривающего, «кто бы из окружающих мог на него поработать», хвастуна и враля, «верного своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий…», нравственно не брезгливого – если б не гнев отца, он бы с удовольствием купил по дешевке дом репрессированных, который ему предлагали как коменданту ЦИКа Абхазии; в самые опасные времена умеющего найти такую дистанцию от власти, когда куски со стола еще долетают, а плетка уже не достает человека? Неужели лишь потому, что главное, хотя и не единственное, достоинство Сандро состоит в том, что он «величайший тамада всех времен и народов», без которого не обходится ни одно уважающее себя застолье?27 Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на то, как характер Сандро соотносится с образом народа, этой мифологизированной категорией, приобретающей реальный вес в атмосфера карнавальной эпичности.
Дядя Сандро отнюдь не выродок в народном мире. В одном из самых идиллических рассказов цикла «Большой день большого дома» запечатлена, как фотография вечности, такая мизансцена: отец Сандро и его братья в поте лица трудятся на поле, его младшая сестра нянчит племянника, женщины готовят обед, а дядя Сандро развлекается бессмысленной беседой с никому – и ему самому тоже – неизвестным гостем якобы в ожидании геологов. В народном мире Чегема есть стожильные труженики (Хабуг) и хитроумные мудрецы (Кязым), есть недотепы и неудачники (Махаз, Кунта), есть вечные бунтари (Колчерукий) и романтики (Чунка), есть стоики (Харлампо) и проклятые изгои (Адамыр, Нури, Омар), есть даже свой Дон Жуан (Марат) и своя чегемская Кармен. Но есть и плуты – Сандро, а в новом поколении куда менее симпатичный Тенгиз. Причем, начиная с «Принца Ольденбургского», одного из первых рассказов цикла, видно, что именно всеобщее плутовство (чтобы не сказать жульничество) даже в сравнительно благополучные времена определяло отношения народа с властью.
И именно плут оказался наиболее приспособленным к эпохе исторических катастроф, именно плутовское лукавство позволило сохранить праздничный дух и живую память народа. Современный Чегем отмечен знаками упадка и смерти: умерли Хабуг, Колчерукий, мама рассказчика, погиб на фронте «чегемский пушкинист» Чунка, под тяжестью «целой горы безмерной подлости и жестокости» погасли глаза и улыбка Тали – «чуда Чегема»; сгинули в ссылке Харлампо и Деспина (виновные в том, что родились греками), чегемцы перестали воспринимать свое село как собственный дом, а «свою землю как собственную землю», «не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится и дух осиротел»; победительный ловелас Марат женился на «приземистой тумбочке с головой совенка», рухнул священный орех, который не могли спалить не молния, ни ретивые комсомольцы, разрушился Большой Дом. Но Сандро неувядаем, как сама жизнь:
«Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойными для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями (…) Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийской извращенности с выражением риторической свирепости престарелого льва».
Дядя Сандро – «любимец самой жизни», и он действительно отлично понимает теневые механизмы всех исторических периодов («все кушают. Идеология тоже кушать хочет»), и поэтому ему неизменно удается «простодушное осуществление фантастических планов», а все, что он говорит и делает, кажется «необыкновенно уютным и милым» и уж во всяком случае прочным и надежным.
В известной степени дядя Сандро «выше нравственности» – как поэзия, как жизнь. Вот почему Искандер последовательно избегает каких-либо этических оценок по отношению к Сандро: даже самые подозрительные его поступки неуловимо связаны с духовным самосохранением народа. Парадоксальным образом дяде Сандро удается сохранить человеческое достоинство даже в самых унизительных положениях, вроде коленопреклоненных танцев у сапог вождя. По-видимому, причина в том, что ни в одной ситуации он не участвует вполне серьезно, он всегда сохраняет несколько театрализованную дистанцию – он всегда играет предложенную ему обстоятельствами роль, но никогда не растворяется в ней полностью, «с оправдательной усмешкой» кивая «на тайное шутовство самой жизни». В этом смысле художественная функция Сандро совпадает с функцией плута, шута и дурака в ранних формах романа28. Только дядя Сандро сохраняет эту роль по отношению к сюжету реальной – и часто смертельно опасной – а не литературной истории.
Характерно, что и стиль самого Искандера, как бы заражаясь от дяди Сандро, постоянно обнаруживает черты «коварной уклончивости», а точнее, намеренной двусмысленности, возникающей в результате комического сочетания противоположных значений в пределах одного периода или даже одного словосочетания:
«Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если б он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если б он в ней не принимал участия»;
«…был такой голос, что, если в темноте неожиданно крикнуть, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал»;
«…смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом»;
«Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием»; »
гостеприимные стены кенгурийской тюрьмы»; »
легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур»;
«Глуповатый, но правительство любит».
Такие стилевые структуры одновременно имитируют эпическую объективность, и пародируют ее. Избранный Искандером стиль настойчиво и ненавязчиво демонстрирует гротескный комизм, которым проникнута сама жизнь, так легко и артистично сопрягающая несовместимое. Такой же амбивалентностью проникнуты и многие сквозные мотивы цикла. Так, скажем, постоянные упоминания об эндурцах – некой зловредной нации, незаметно внедряющейся в абхазский мир и несущей ему порчу – могут выглядеть как пародия на популярные объяснения всех социальных бед и напастей кознями «чужаков» («коммунистов», «горожан», «жидо-масонов», «империалистов», «демократов», и т. п.), популярные прежде всего потому, что позволяют переложить ответственность за деградацию и распад с самого народа на внешние по отношению к нему силы. В то же время, иногда и сам Искандер, и его любимые герои, кажется, вполне серьезно обсуждают засилье «эндурцев», придавая этой категории скорее нравственно-оценочный, нежели национально-этнический смысл:
«Нет, – сказал Кязым, я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом одни эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец! (…) Но иногда мне кажется, – сказал Кязым, как бы смягчившись после пения, – что я тоже эндурец.
- Почему? – сочувственно спросил у него Бахут.
- Потому что не у кого спросить, – сказал Кязым, – эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут».
Лукавая амбивалентность отличает и созданный Искандером образ Чегема как метафоры народной жизни.
С одной стороны, в описаниях Чегемской жизни постоянно звучат идиллические и даже утопические ноты. Идеализация во многом оправдывается тем что чегемская идиллия неотделима от детских воспоминаний лирического героя, тоска по чегемской гармонии тождественна тоске по чистоте и естественности. «Или Чегем – это некая ретроспективная утопия, робинзонада и редкий случай современной утопии, утопии памяти?» – спрашивал критик А. Лебедев29. «Чегем – невыдуманное понятие, по чистой случайности, рифмующееся с Эдемом, – он и есть сама Утопия, которая вместила в себя много отнюдь не идиллического, но все ж остается утопией, мечтой, ностальгией…» – вторит Ст. Рассадин30. Но в чем же тогда разница между Искандером и авторами «деревенской прозы», ведь и у них тоже создавалась ретроспективная крестьянская утопия, согретая детскими воспоминаниями самого автора. Неужели вся разница только в том, что искандеровский Эдем располагается не в Сибири и не на Вологодчине, а на Кавказе?
На наш взгляд, существуют и иные, более существенные, расхождения между Искандером и «почвенничеством» деревенской прозы.
Во-первых, это содержание Чегемской утопии. Да, жители Чегема живут в органическом родстве с природой и с вековыми традициями, оформившимися в системе обычаев, почитаемых всеми поколениями; нарушение обычая (и стоящей за ним нравственной нормы) строго карается изгнанием из Чегема, отлучением от рода, лишением человека почвы (рассказ «Табу»). В этом смысле Искандер мало чем отличается от «деревенщиков». Но у Искандера диктатура обычаев уравновешивается высочайшим чувством собственного достоинства, культивируемом на Кавказе вообще и у абхазцев в частности. «Дикарь… но какое чувство собственного достоинства», – думает князь Ольденбургский при встрече с молодым Сандро. За оскорбленное достоинство – свое или семьи – такие герои Искандера, как Махаз или Чунка, не раздумывая, идут на смертельный риск и даже на убийство. ои Искандера, как Махаз или Чунка, не раздумывая, идут на смертельный риск и даже на убийство. Причем между властью обычаев и достоинством личности в мире Чегема нет существенных противоречий (а если они и возникают, то сглаживаются юмором); народная праздничная культура порождает утопическое равенство всех, без различия социального или имущественного положения: «…всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки – все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почтительно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства». Именно эта праздничная свобода и воплощена ярче всего в образе дяди Сандро, почитающего, конечно, и обычаи, но всегда умеющего их обойти в случае необходимости.
Во-вторых, Искандер обнаруживает глубокую органическую связь между чегемской утопией и трагифарсом советской истории – в этом плане расхождения Искандера с деревенской прозой носят кардинальный характер.
Древнее молельное дерево, которому пастухи и охотники приносили жертвы, прося совета у языческого божества, в разгар коллективизации начинает отчетливо произносить слово «кумхоз» (т.е. колхоз) – причем, для Хабуга, впервые обнаружившего новое звучание великана-ореха, это трагедия: божество предало свой народ, отдав его на разорение в «кумхозы» (а «перспективность» колхозного строительства Хабуг распознал сразу же). Зато дядя Сандро немедленно пристраивается при «политически грамотном» орехе чем-то вроде эксурсовода-тамады. Посетители дяди Сандро именуются «паломниками», только Колчерукий отказался принимать звон молельного ореха за руководство к действию. Впоследствии обнаруживается немало аналогичных сближений. Так, например, соцсоревнование между двумя стахановками по сбору чая выливается в состязание между двумя семейными кланами: «Я думаю – соревнование вроде кровной мести… Выигрывает тот, у кого больше родственников…» Вписывается в этот ряд и чегемская легенда о Ленине как о том, кто «хотел хорошего, но не успел», и разительное сходство между абреками и партийными вождями. В раннем рассказе Искандера «Летним днем» немецкий ученый, переживший нацизм, говорит:
«Вообще для рейха было характерно возвращение назад, к простейшим родовым связям (…) Функционеры рейха старались подбирать людей не только по родственным, но и по земляческим признакам. Общность произношения, общность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало им эрзац того, что у культурных людей зовется духовной близостью. Ну, и, конечно, система незримого заложничества».
В Чегеме и его окрестностях именно система родовых связей стала одним из тех механизмов, который позволил народу «обжить» тоталитарную систему изнутри, заставляя ее иной раз работать на себя – особенно в Абхазии, где, как неоднократно замечает Искандер, «все друг другу родственники». И дядя Сандро никогда не упускает возможности использовать родственные отношения для укрепления своего социального статуса.
Вообще чаще всего именно дядя Сандро выступает в роли «медиатора», соединяющего два, казалось бы, несовместимых мира: мир Чегема и мир тоталитарной власти. Поведение партийных деятелей проникнуто той же самой театральностью, которая всегда была характерна для дяди Сандро, недаром в свои преклонные годы он становится неизменным украшением всякого рода президиумов и торжественных застолий. Обращает на себя внимание нередкое в книге сопоставление двух народных любимцев – дяди Сандро и Сталина, проявляющееся не только в характеристиках типа «величайший тамада всех времен и народов» (явно отсылающей к официальному «титулу» вождя) и не только в упоминании о медальном профиле дяди Сандро (на медалях советского времени, как известно, были запечатлены в первую очередь профили Ленина и Сталина). Есть и более прямое указание на такую парадоксальную близость: в рассказе «Дядя Сандро и его любимец» Сандро, рассказывая о своей третьей встрече со Сталиным, тонко намекает на то, что Сталин «тоже мог бы стать тамадой, если б так много не занимался политикой», что подразумевало, что если Сандро «так много не занимался застольными делами, (он) мог бы стать вождем».
«Историческая» встреча Сандро со Сталиным образует сюжет кульминационной новеллы цикла – «Пиры Валтасара», дающей художественный (а не декларативный) ответ на вопрос о причинах «странных сближений» между традициями патриархального Чегема и произволом тоталитарной тирании.
Собственно описание пира, на котором дядя Сандро танцует у ног Сталина, предваряется несколькими микроновеллами, объединенными мотивом сакрализации власти. Это и рассказ о том, как некий партийный функционер не только воспользовался машиной Лакобы (первого секретаря ЦК Абхазии, впоследствии репрессированного), чтобы поехать в свою деревню, но и намекнул за пиршественным столом «что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали». Немедленно следует наказание: «из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы», которые во дворе «измолотили» руководящего товарища. Далее следуют несколько уточнений, придающих, этому эпизоду отчетливый мистический характер. Во-первых, неизвестно, как эти «не то племянники, не то однофамильцы» узнали о гнусных намеках – из-за пиршественного стола никто не выходил. Во-вторых, глупые намеки четко квалифицируются как оскорбление «не только самого Нестора Лакобы, но всего его рода» (родовые связи). В-третьих, выносится резюмирующая оценка этого эпизода как примера наказания за «святотатство и при этом лживое святотатство». Вся система традиционных верований и обычаев сохранена, но развернута в сторону носителей власти, которым соответственно придается сакральный статус, как и конкретным атрибутам их власти (тот же «бьюик»). Эта тема потом будет продолжена в эпизоде, когда дядя Сандро, спеша на встречу со Сталиным, оставляет больную дочь со словами: «Клянусь Нестором [Лакобой], девочка выздоровеет!» «Именем Нестора не всякому разрешают клясться», – добавляют гостящие у Сандро чегемцы. Но самое главное, что «пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть», – клятва именем партийного босса произвела магическое воздействие! Затем Сандро, по малозначительной причине задерживают у входа в санаторий, где должно происходить торжество, но стоит ему произнести «слова-символы»: «»Бик», Цик, Лакоба» – как волшебным образом появляется его земляк по району и товарищ по ансамблю Махаз, который проводит Сандро непосредственно за кулисы. Впоследствии похвала вождя определяется друзьями Сандро как «благодать», снизошедшая на него с небес, а конфеты и печенье со сталинского стола, щедро разбрасываемые танцорами деревенским ребятишкам, называются «божьим даром».
Поэтому пир с вождями превращается в свидание с богами, и ни о каком «карнавальном равенстве» здесь нет и речи. Н. Иванова справедливо замечает, что «застолье в «Пирах Валтасара» – черная пародия на истинное застолье (…) Вместо свободы, непринужденности за столом правит принуждение и насилие»31. Однако Искандер демонстрирует не просто искажение народной традиции, а плавный переход счастливого праздничного обряда в свою противоположность. В «Пирах Валтасара» карнавальный мир на наших глазах превращается в маскарадный. Знаками этой трансформации становятся традиционно гротескные мотивы маски и превращения человека в механизм: это и лица приглашенных на пир секретарей райкомов западной Грузии, чьи брови застыли в «удивленной приподнятости», это и руководитель ансамбля Панцулая, стоящий перед Сталиным «как мраморное изваяние благодарности», это и дядя Сандро, интуитивно скрывающий лицо под башлыком в знаменитом коленопреклоненном прыжке (а Сталин потом «с выражением маскарадного любопытства» развяжет башлык на голове Сандро), это и Лакоба, который стреляет по куриному яйцу, поставленному на голову повара, и его (Лакобы) «бледное лицо превращается в кусок камня», «и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз». Лишь древняя песня способна ненадолго смыть с лиц «жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все самостоятельнее проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов». Пир, включенный в карнавальную традицию, раскрепощает человека, уравнивая всех в высоком сознании собственного достоинства. Маскарадный пир Сталина использует те же самые древние ритуалы, что укоренены в народной культуре (тосты, аллаверды, свадебная и воинская песни, состязание женщин в танце, а мужчин в стрельбе), для того, чтобы целенаправленно унизить достоинство и в конечном счете лишить человека лица, заменив его на придурковатую и предсказуемую маску.
Сам Сталин на этом пиру предстает как виртуозный церемонимейстер маскарада, сталкивающий лбами соперников (Лакоба против Берия и Ворошилова), управляющий коллективными эмоциями, умело унижающий всех и каждого: «все шло, как он хотел». При этом он сам постоянно меняет маски: то это почтительный к хозяину гость, то легкомысленный шутник, то лучший друг Лакобы, то знаток национальных обычаев, то посланец Москвы («У вас на Кавказе…»), то скромный законник, требующий представить счет за присланные ему мандарины, то деревенский патриарх, раздающий подарки после пира. Но если лица участников пира все прочнее заковываются в маски, то лицо Сталина постепенно все отчетливее выступает из-под череды масок. Сначала это лицо показывается в виде «грозной настороженности», с которой Сталин спрашивает Сандро о том, где он мог его раньше видеть; потом оно выглядывает в тот момент, когда Сталин советует Берия наказать слишком упрямого старого большевика не прямо, а через его брата: «Пусть этот болтун, – ткнул Сталин в невидимого болтуна, – всю жизнь жалеет, что загубил брата». И наконец, в финале происходит узнавание в Сталине жестокого грабителя и убийцы, который не только расправился со всеми своими сообщниками, но и готов был убить невинного ребенка-свидетеля, да раздумал, «чтоб не терять скорости». Вот – его подлинное лицо. Но узнать Сталина способен только Сандро: встреча с вождем пробуждает в нем детские воспоминания об убийце с покатым плечом.
Почему именно Сандро способен распознать подлинное лица тирана? Да потому, что он, великий тамада, не хуже Сталина владеет техникой манипуляции пиршественными эмоциями, не хуже вождя умеет менять маски на своем лице. Вот почему он, хоть и принимает условия сталинского маскарада («поза дяди Сандро, выражающая дерзностную преданность и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы»), но не подчиняется им полностью. Сандро притворяется незрячим, когда в коленопреклоненном прыжке к ногам Сталина, закрывает себе лицо, но на самом деле он единственный (кроме Сталина) зрячий на этом пиру. Сандро замечает все, начиная от сухорукости Сталина и сходства между жирным блеском его сапог с блеском его глаз, вплоть до того, как целенаправленно Сталин подставляет Лакобу под удар могущественных врагов, как мелочно мстит он каждому (Берии, Ворошилову, Калинину, безымянному секретарю райкома) за малейшее неточное, недостаточно униженное движение. Сандро испытывает даже смущение за Сталина: как настоящий (карнавальный) тамада, он никогда бы так не повел пир! В этом смысле Сталин и Сандро действительно равны друг другу, именно в силу этого равенства Сандро и удается сохранить не только зоркость и жизнь, но и достоинство. В контексте названия рассказа именно плут, пройдоха и опытный тамада Сандро, наметанным глазом определяющий точное количество выпитых бокалов, выступает в роли пророка Даниила, сумевшего разгадать зловещий смысл огненных знаков, загоревшихся на стенах дворца во время царского пира.
Именно в «Пирах Валтасара» наиболее явно видно, как тоталитарный порядок опирается на традиционные народные обычаи, «всего лишь» меняя их ориентацию – направляя их на религиозное поклонение власти, против самых робких проявлений достоинства личности. «Пиры Валтасара» объясняют и то, почему именно на долю Сандро выпала роль хранителя народной традиции. Плут в мировой литературе всегда отличался способностью виртуозно менять маски, не совпадая полностью ни одной из них. Именно это качество дяди Сандро оказалось спасительным в процессе насильственного превращения карнавальной народной традиции в маскарадную: предлагаемые режимом маски не уничтожали его лицо, так как игра разнообразными масками и составляет его плутовскую натуру. То, что для других оказалось трагедией, став причиной мучительного отказа от всего самого дорогого и значимого, что заставляло безуспешно ломать себя в угоду времени и власти, – все это дядя Сандро превратил в бесконечный пир, в театральное представление без занавеса и кулис, и благодаря этому спас и себя, и тот народный дух, который его взрастил. Это может показаться проповедью конформизма. Однако Искандер явно предпочитает лукавство Сандро императивному требованию героизма от всех и каждого32, хотя и понимает, что вариант Сандро достаточно уникален, и лирический герой, alter ego автора, явно отказывается быть последователем Сандро в жизни, но – не в искусстве. Победа Сандро над тиранией неповторима, как неповторимо художественное произведение: бесконечные байки Сандро, собранные в книге Искандера, – вот главный документ его карнавального, плутовского, торжества над зловещим маскарадом истории.
Куда более жесткую позицию по отношению к народу и народному конформизму Искандер занял в философской сказке «Кролики и удавы» (впервые опубликована в эмигрантском журнале «Континент» в 1980-м году), которую он, по-видимому, писал параллельно со многими новеллами из чегемского цикла. Станет ли народ свободным, если избавится от тирании? – так можно сформулировать центральный для этой философской сатиры вопрос, который, казалось бы, не вполне соответствовал социально-культурному антуражу эпохи зрелого «застоя». Искандер, с одной стороны, осмыслял горестные уроки всей эпохи застоя, когда гнет тоталитарного режима явно ослабел в сравнении со сталинскими временами, когда исчез страх перед ГУЛАГом, но укрепилась и расширилась психологическая база режима, опирающегося на массовое добровольное рабство. С другой стороны, первая публикация «Кроликов и удавов» в России состоялась в 1988-м году, что поместило это произведение в контекст «перестроечных» споров о будущем России, о выборе свободного пути политического развития и о перспективах этого выбора.
Хотя уподобление жизни животных социальной и даже политической жизни людей напоминает о традиции животной сказки, басни, а в XX веке – известной сатиры Дж. Оруэлла «Ферма животных» структура «Кроликов и удавов» парадоксальным образом возрождает структурную схему волшебной сказки. В начале этой схемы (как показал еще В. Я. Пропп) лежит ситуация нарушенного семейного благополучия (козни злой мачехи, болезнь отца, поиски невесты, украденный ребенок), затем следуют многочисленные испытания центрального героя, символически воспроизводящие ситуацию временной смерти (путешествия в царство смерти), в результате этих испытаний герою удается добыть средства для восстановления семейной гармонии (свадьба), которая одновременно понимается в сказке как основа социального и мирового порядка в целом. енок), затем следуют многочисленные испытания центрального героя, символически воспроизводящие ситуацию временной смерти (путешествия в царство смерти), в результате этих испытаний герою удается добыть средства для восстановления семейной гармонии (свадьба), которая одновременно понимается в сказке как основа социального и мирового порядка в целом.
Кролики и удавы в сказке Искандера вроде бы противопоставлены друг другу, но вся логика выстроенного писателем сюжета указывает на то, что палачи и жертвы образуют семейное единство, и жертвы нужны палачам в той же мере, в какой бывшие жертвы не могут выжить сами по себе, без страха перед палачами. Открытие Задумавшегося кролика, понявшего, что «их гипноз – это наш страх», разрушает это семейное единство, и в результате этого открытия и удавы, и кролики входят в зону временной смерти: удавы буквально умирают от голода, так как кролики, наученные Задумавшимся, отказываются подчиняться гипнозу и откровенно издеваются над удавами. Что же касается кроликов, то и они переживают тяжкие испытания. Король, почувствовав опасность, исходящую от открытия Задумавшегося, «сдает» его удавам – а Задумавшийся, понимая, что его предали свои же братья-кролики, фактически совершает самоубийство, чтобы раскрыть кроликам глаза на коварство короля. Но это не помогает. Король удерживается у власти благодаря кроличьему «рефлексу подчинения», но порядка среди кроликов становится все меньше и меньше: расцветает пьянство, ширится воровство, а главное – пропадает вера в наивысший идеал кроликов – Цветную капусту, выводимую на неких секретных плантациях. А «Король знал, что только при помощи надежды (Цветная капуста) и страха (удавы) можно разумно управлять жизнью кроликов». Исчезновение обеих составляющих порядка приводит не к свободе, а к анархии и хаосу.
В конечном счете, общий кризис разрешается тем, что удав, сосланный на верную смерть в пустыню за то, что он недостаточно квалифицированно «обработал» Задумавшегося, впервые догадывается о том, что кроликов можно уничтожать не только посредством гипноза. Убивая сосланного в ту же пустыню Находчивого кролика (предателя Задумавшегося), пустынник испытывает «какую-то странную любовь… суровую любовь без нежностей», когда сжимает несчастного кролика в своих стальных объятиях. Так восстанавливается «семейное единство» кроликов и удавов. «Гениальное открытие» «удава-пустынника», в соответствии со сказочными законами, делает его новым правителем всех удавов. Одновременно восстанавливается порядок и укрепляется власть короля в царстве кроликов. Более того, прежний «семейный порядок» идеализируется и мифологизируется: и в том, и в другом королевстве идет в рост ностальгический миф о счастливых временах «хипноза».
Какие же ценности испытываются и добываются в момент временной смерти? Благодаря чему восстанавливается «семейная гармония»?
Это способность к предательству (Находчивый, Король, вдова Задумавшегося), это конформистская безответственность («в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением»), это способность совершить убийство (молодой питон, ставший пустынником, а затем правителем). В сравнении с народной волшебной сказкой – все это антиценности. И сказка, соответственно, под пером Искандера трансформируется в антисказку, что демонстрирует глубочайшее разочарование писателя в народной системе ценностей (окаменевшей в «памяти» фольклорного жанра). В искандеровской сказке исчезает последняя надежда на способность народа сопротивляться демагогии и идеологии несвободы. Наблюдая за жизнью своих кроликов, Искандер с горечью убеждается в том, что народу не нужна свобода и правда: эти ориентиры требуют от личности духовных усилий, духовного труда. Тоталитарная же «семья народов», особенно в поздней, застойной, версии отличается именно полным отсутствием каких бы то ни было духовных проблем – точнее говоря, здесь духовное значение придается сугубо материальным категориям. Так, у кроликов явно обожествляется жратва: аллегорией власти в повести становится Стол и Допущенность к Столу, «святой троицей» объявляется морковка, фасоль и капуста, на государственный флаг как символ светлого будущего помещается цветная капуста, а за два кочана обычной капусты в неделю вдова Задумавшегося будет охотно перекраивать память о мудреце и герое в соответствии с нуждами текущего момента. В такой ситуации свобода воспринимается только как право хапнуть побольше, и ни в коей мере не «изменяет природу кроликов»: даже избавившись от страха, они остаются рабами, мечтающими о новой «сильной руке» и получающими ее в конце концов.
Горестное разочарование в «народной правде» превращает «Кроликов и удавов» в своеобразный эпилог чегемского цикла да и всей линии карнавального гротеска в литературе 1970-1980-х годов в целом.
Но, как и у Алешковского и Войновича, карнавально праздничный мир народной жизни у Искандера разворачивается на фоне самых мрачных десятилетий советской истории. Совмещение исторического плана с разомкнутой в вечность стихией народного пиршества и создает гротескный эффект.
Искандер начинал как поэт, но славу ему принесла опубликованная в «Новом мире» повесть «Созвездие козлотура» (1966). Написанная как сатира на непродуманные хрущевские реформы (кукуруза, разукрупнение хозяйств, освоение залежных земель и т. п.), она переводила конкретный социальный сюжет в более широкий план: фикциям «тотальной козлотуризации», демагогическим фонтанам и карьерным упованиям, бьющим вокруг нелепой идеи скрестить горного тура с домашней козой – противостояли простые и надежные реальности: море, красота девушек, воспоминания о детстве, доброе застолье, здравый крестьянский опыт, дедовский дом в Чегеме, наконец, закон природы, повинуясь которому несчастный козлотур яростно разгоняет предлагаемых ему коз. Гипноз формулировок, политическая кампанейщина, власть «мертвой буквы» (говоря словами Пастернака) – все это оказывается смешной нелепицей, упирающейся в категорическое нежелание козлотура «приносить плодовитое потомство»: «Нэнавидит! – сказал председатель почти восторженно… Хорошее начинание, но не для нашего климата!» В сущности, Искандер доказывал себе и читателю, что все фантомные построения идеологии и власти в конце концов не могут не рухнуть, ибо им противостоят куда более устойчивые силы – природа и сама жизнь. Искандеровский оптимизм звучал как несколько запоздавший отголосок молодежной прозы, исполненной веры в «неизбежное торжество исторической справедливости». Оптимистическая вера во всесилие жизни, рано или поздно сокрушающей власть политических фикций, сохраняется и в цикле рассказов о Чике, и в примыкающей к нему повести «Старый дом под кипарисами» (другое название «Школьный вальс, или Энергия стыда»). Здесь естественный ход жизни с ее праздничностью и мудростью воплощен через восприятие центрального героя – мальчика Чика. Однако в этих произведениях гротеск обнаруживается в том, как ложные представления проникают в сознание «естественного» героя («Мой дядя самых честных правил», «Запретный плод»), как трудно усваивается отличие между «внеисторическими ценностями жизни» и навязываемыми эпохой фикциями («Чаепитие и любовь к морю», «Чик и Пушкин»), как интуитивно вырабатываются механизмы парадоксальной защиты от «хаоса глупости» и абсурда («Защита Чика»), как постепенно, через непоправимые ошибки и муки стыда, приходит умение «понимать время» («Старый дом под кипарисами»).
Самое сложное соотношение между историческими химерами и вековечным укладом жизни обнаруживается в центральном произведении Искандера, которое он начал писать в 60-е, а закончил уже во второй половине 80-х – цикле «Сандро из Чегема». Эту книгу нередко называют «романом» (сам Искандер и Н. Иванова) или даже «эпосом» (Ст. Рассадин). Однако перед нами несомненно цикл и далеко не слишком стройный26. Интересно, что фактически каждая из новелл, входящих в цикл представляет собой типичный «монументальный рассказ», состоящий из нескольких микроновелл, варьирующих основной сюжет. Так действительно создается эпическая доминанта цикла (что вновь сближает Искандера с Войновичем и Алешковским). Впрочем, когда в центре рассказа нет эпического характера или эпического события, эта жанровая структура быстро опустошается, вырождаясь в слабоорганизованный набор тематически сходных или, наоборот, ни в чем не сходных, но цепляющихся друг за друга анекдотов. (Этим, на наш взгляд объясняется художественная неудача таких рассказов, как «Дядя Сандро и конец козлотура», «Хранители гор, или Народ знает своих героев», «Дороги», «Дудка старого Хасана»).
Однако парадокс искандеровского цикла состоит в том, что эпический сюжет, построенный вокруг коллизии «народный мир в эпоху исторического безумия», движется по двум параллельным, но противоположно направленным руслам: дядя Сандро, благодаря своему легендарному лукавству, не только легко проходит через всевозможные исторические коллизии (тут и общение с царским наместником в Абхазии – принцем Ольденбургским, и гражданская война, и встречи со Сталиным, вплоть до хрущевских затей и «застойных» торжеств), но и, как правило, извлекает из них немалые выгоды для себя, в то время как те же самые исторические коллизии практически всем его родным и близким (начиная с его собственного отца и кончая любимой дочерью) несут страдания, утраты и подчас гибель. Почему Искандер выбрал на роль центрального героя не крестьянского патриарха, к примеру, не отца Сандро – старого Хабуга, основателя Чегема, одного из тех, на ком земля держится, и не чегемского Одиссея Кязыма? Почему центральным героем Искандер сделал пройдоху и хронического бездельника («Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать этого несчастного сада, который он сторожил три года, если я не ошибаюсь?»), всегда присматривающего, «кто бы из окружающих мог на него поработать», хвастуна и враля, «верного своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий…», нравственно не брезгливого – если б не гнев отца, он бы с удовольствием купил по дешевке дом репрессированных, который ему предлагали как коменданту ЦИКа Абхазии; в самые опасные времена умеющего найти такую дистанцию от власти, когда куски со стола еще долетают, а плетка уже не достает человека? Неужели лишь потому, что главное, хотя и не единственное, достоинство Сандро состоит в том, что он «величайший тамада всех времен и народов», без которого не обходится ни одно уважающее себя застолье?27 Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на то, как характер Сандро соотносится с образом народа, этой мифологизированной категорией, приобретающей реальный вес в атмосфера карнавальной эпичности.
Дядя Сандро отнюдь не выродок в народном мире. В одном из самых идиллических рассказов цикла «Большой день большого дома» запечатлена, как фотография вечности, такая мизансцена: отец Сандро и его братья в поте лица трудятся на поле, его младшая сестра нянчит племянника, женщины готовят обед, а дядя Сандро развлекается бессмысленной беседой с никому – и ему самому тоже – неизвестным гостем якобы в ожидании геологов. В народном мире Чегема есть стожильные труженики (Хабуг) и хитроумные мудрецы (Кязым), есть недотепы и неудачники (Махаз, Кунта), есть вечные бунтари (Колчерукий) и романтики (Чунка), есть стоики (Харлампо) и проклятые изгои (Адамыр, Нури, Омар), есть даже свой Дон Жуан (Марат) и своя чегемская Кармен. Но есть и плуты – Сандро, а в новом поколении куда менее симпатичный Тенгиз. Причем, начиная с «Принца Ольденбургского», одного из первых рассказов цикла, видно, что именно всеобщее плутовство (чтобы не сказать жульничество) даже в сравнительно благополучные времена определяло отношения народа с властью.
И именно плут оказался наиболее приспособленным к эпохе исторических катастроф, именно плутовское лукавство позволило сохранить праздничный дух и живую память народа. Современный Чегем отмечен знаками упадка и смерти: умерли Хабуг, Колчерукий, мама рассказчика, погиб на фронте «чегемский пушкинист» Чунка, под тяжестью «целой горы безмерной подлости и жестокости» погасли глаза и улыбка Тали – «чуда Чегема»; сгинули в ссылке Харлампо и Деспина (виновные в том, что родились греками), чегемцы перестали воспринимать свое село как собственный дом, а «свою землю как собственную землю», «не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится и дух осиротел»; победительный ловелас Марат женился на «приземистой тумбочке с головой совенка», рухнул священный орех, который не могли спалить не молния, ни ретивые комсомольцы, разрушился Большой Дом. Но Сандро неувядаем, как сама жизнь:
«Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойными для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями (…) Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийской извращенности с выражением риторической свирепости престарелого льва».
Дядя Сандро – «любимец самой жизни», и он действительно отлично понимает теневые механизмы всех исторических периодов («все кушают. Идеология тоже кушать хочет»), и поэтому ему неизменно удается «простодушное осуществление фантастических планов», а все, что он говорит и делает, кажется «необыкновенно уютным и милым» и уж во всяком случае прочным и надежным.
В известной степени дядя Сандро «выше нравственности» – как поэзия, как жизнь. Вот почему Искандер последовательно избегает каких-либо этических оценок по отношению к Сандро: даже самые подозрительные его поступки неуловимо связаны с духовным самосохранением народа. Парадоксальным образом дяде Сандро удается сохранить человеческое достоинство даже в самых унизительных положениях, вроде коленопреклоненных танцев у сапог вождя. По-видимому, причина в том, что ни в одной ситуации он не участвует вполне серьезно, он всегда сохраняет несколько театрализованную дистанцию – он всегда играет предложенную ему обстоятельствами роль, но никогда не растворяется в ней полностью, «с оправдательной усмешкой» кивая «на тайное шутовство самой жизни». В этом смысле художественная функция Сандро совпадает с функцией плута, шута и дурака в ранних формах романа28. Только дядя Сандро сохраняет эту роль по отношению к сюжету реальной – и часто смертельно опасной – а не литературной истории.
Характерно, что и стиль самого Искандера, как бы заражаясь от дяди Сандро, постоянно обнаруживает черты «коварной уклончивости», а точнее, намеренной двусмысленности, возникающей в результате комического сочетания противоположных значений в пределах одного периода или даже одного словосочетания:
«Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если б он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если б он в ней не принимал участия»;
«…был такой голос, что, если в темноте неожиданно крикнуть, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал»;
«…смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом»;
«Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием»; »
гостеприимные стены кенгурийской тюрьмы»; »
легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур»;
«Глуповатый, но правительство любит».
Такие стилевые структуры одновременно имитируют эпическую объективность, и пародируют ее. Избранный Искандером стиль настойчиво и ненавязчиво демонстрирует гротескный комизм, которым проникнута сама жизнь, так легко и артистично сопрягающая несовместимое. Такой же амбивалентностью проникнуты и многие сквозные мотивы цикла. Так, скажем, постоянные упоминания об эндурцах – некой зловредной нации, незаметно внедряющейся в абхазский мир и несущей ему порчу – могут выглядеть как пародия на популярные объяснения всех социальных бед и напастей кознями «чужаков» («коммунистов», «горожан», «жидо-масонов», «империалистов», «демократов», и т. п.), популярные прежде всего потому, что позволяют переложить ответственность за деградацию и распад с самого народа на внешние по отношению к нему силы. В то же время, иногда и сам Искандер, и его любимые герои, кажется, вполне серьезно обсуждают засилье «эндурцев», придавая этой категории скорее нравственно-оценочный, нежели национально-этнический смысл:
«Нет, – сказал Кязым, я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом одни эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец! (…) Но иногда мне кажется, – сказал Кязым, как бы смягчившись после пения, – что я тоже эндурец.
- Почему? – сочувственно спросил у него Бахут.
- Потому что не у кого спросить, – сказал Кязым, – эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут».
Лукавая амбивалентность отличает и созданный Искандером образ Чегема как метафоры народной жизни.
С одной стороны, в описаниях Чегемской жизни постоянно звучат идиллические и даже утопические ноты. Идеализация во многом оправдывается тем что чегемская идиллия неотделима от детских воспоминаний лирического героя, тоска по чегемской гармонии тождественна тоске по чистоте и естественности. «Или Чегем – это некая ретроспективная утопия, робинзонада и редкий случай современной утопии, утопии памяти?» – спрашивал критик А. Лебедев29. «Чегем – невыдуманное понятие, по чистой случайности, рифмующееся с Эдемом, – он и есть сама Утопия, которая вместила в себя много отнюдь не идиллического, но все ж остается утопией, мечтой, ностальгией…» – вторит Ст. Рассадин30. Но в чем же тогда разница между Искандером и авторами «деревенской прозы», ведь и у них тоже создавалась ретроспективная крестьянская утопия, согретая детскими воспоминаниями самого автора. Неужели вся разница только в том, что искандеровский Эдем располагается не в Сибири и не на Вологодчине, а на Кавказе?
На наш взгляд, существуют и иные, более существенные, расхождения между Искандером и «почвенничеством» деревенской прозы.
Во-первых, это содержание Чегемской утопии. Да, жители Чегема живут в органическом родстве с природой и с вековыми традициями, оформившимися в системе обычаев, почитаемых всеми поколениями; нарушение обычая (и стоящей за ним нравственной нормы) строго карается изгнанием из Чегема, отлучением от рода, лишением человека почвы (рассказ «Табу»). В этом смысле Искандер мало чем отличается от «деревенщиков». Но у Искандера диктатура обычаев уравновешивается высочайшим чувством собственного достоинства, культивируемом на Кавказе вообще и у абхазцев в частности. «Дикарь… но какое чувство собственного достоинства», – думает князь Ольденбургский при встрече с молодым Сандро. За оскорбленное достоинство – свое или семьи – такие герои Искандера, как Махаз или Чунка, не раздумывая, идут на смертельный риск и даже на убийство. ои Искандера, как Махаз или Чунка, не раздумывая, идут на смертельный риск и даже на убийство. Причем между властью обычаев и достоинством личности в мире Чегема нет существенных противоречий (а если они и возникают, то сглаживаются юмором); народная праздничная культура порождает утопическое равенство всех, без различия социального или имущественного положения: «…всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки – все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почтительно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства». Именно эта праздничная свобода и воплощена ярче всего в образе дяди Сандро, почитающего, конечно, и обычаи, но всегда умеющего их обойти в случае необходимости.
Во-вторых, Искандер обнаруживает глубокую органическую связь между чегемской утопией и трагифарсом советской истории – в этом плане расхождения Искандера с деревенской прозой носят кардинальный характер.
Древнее молельное дерево, которому пастухи и охотники приносили жертвы, прося совета у языческого божества, в разгар коллективизации начинает отчетливо произносить слово «кумхоз» (т.е. колхоз) – причем, для Хабуга, впервые обнаружившего новое звучание великана-ореха, это трагедия: божество предало свой народ, отдав его на разорение в «кумхозы» (а «перспективность» колхозного строительства Хабуг распознал сразу же). Зато дядя Сандро немедленно пристраивается при «политически грамотном» орехе чем-то вроде эксурсовода-тамады. Посетители дяди Сандро именуются «паломниками», только Колчерукий отказался принимать звон молельного ореха за руководство к действию. Впоследствии обнаруживается немало аналогичных сближений. Так, например, соцсоревнование между двумя стахановками по сбору чая выливается в состязание между двумя семейными кланами: «Я думаю – соревнование вроде кровной мести… Выигрывает тот, у кого больше родственников…» Вписывается в этот ряд и чегемская легенда о Ленине как о том, кто «хотел хорошего, но не успел», и разительное сходство между абреками и партийными вождями. В раннем рассказе Искандера «Летним днем» немецкий ученый, переживший нацизм, говорит:
«Вообще для рейха было характерно возвращение назад, к простейшим родовым связям (…) Функционеры рейха старались подбирать людей не только по родственным, но и по земляческим признакам. Общность произношения, общность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало им эрзац того, что у культурных людей зовется духовной близостью. Ну, и, конечно, система незримого заложничества».
В Чегеме и его окрестностях именно система родовых связей стала одним из тех механизмов, который позволил народу «обжить» тоталитарную систему изнутри, заставляя ее иной раз работать на себя – особенно в Абхазии, где, как неоднократно замечает Искандер, «все друг другу родственники». И дядя Сандро никогда не упускает возможности использовать родственные отношения для укрепления своего социального статуса.
Вообще чаще всего именно дядя Сандро выступает в роли «медиатора», соединяющего два, казалось бы, несовместимых мира: мир Чегема и мир тоталитарной власти. Поведение партийных деятелей проникнуто той же самой театральностью, которая всегда была характерна для дяди Сандро, недаром в свои преклонные годы он становится неизменным украшением всякого рода президиумов и торжественных застолий. Обращает на себя внимание нередкое в книге сопоставление двух народных любимцев – дяди Сандро и Сталина, проявляющееся не только в характеристиках типа «величайший тамада всех времен и народов» (явно отсылающей к официальному «титулу» вождя) и не только в упоминании о медальном профиле дяди Сандро (на медалях советского времени, как известно, были запечатлены в первую очередь профили Ленина и Сталина). Есть и более прямое указание на такую парадоксальную близость: в рассказе «Дядя Сандро и его любимец» Сандро, рассказывая о своей третьей встрече со Сталиным, тонко намекает на то, что Сталин «тоже мог бы стать тамадой, если б так много не занимался политикой», что подразумевало, что если Сандро «так много не занимался застольными делами, (он) мог бы стать вождем».
«Историческая» встреча Сандро со Сталиным образует сюжет кульминационной новеллы цикла – «Пиры Валтасара», дающей художественный (а не декларативный) ответ на вопрос о причинах «странных сближений» между традициями патриархального Чегема и произволом тоталитарной тирании.
Собственно описание пира, на котором дядя Сандро танцует у ног Сталина, предваряется несколькими микроновеллами, объединенными мотивом сакрализации власти. Это и рассказ о том, как некий партийный функционер не только воспользовался машиной Лакобы (первого секретаря ЦК Абхазии, впоследствии репрессированного), чтобы поехать в свою деревню, но и намекнул за пиршественным столом «что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали». Немедленно следует наказание: «из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы», которые во дворе «измолотили» руководящего товарища. Далее следуют несколько уточнений, придающих, этому эпизоду отчетливый мистический характер. Во-первых, неизвестно, как эти «не то племянники, не то однофамильцы» узнали о гнусных намеках – из-за пиршественного стола никто не выходил. Во-вторых, глупые намеки четко квалифицируются как оскорбление «не только самого Нестора Лакобы, но всего его рода» (родовые связи). В-третьих, выносится резюмирующая оценка этого эпизода как примера наказания за «святотатство и при этом лживое святотатство». Вся система традиционных верований и обычаев сохранена, но развернута в сторону носителей власти, которым соответственно придается сакральный статус, как и конкретным атрибутам их власти (тот же «бьюик»). Эта тема потом будет продолжена в эпизоде, когда дядя Сандро, спеша на встречу со Сталиным, оставляет больную дочь со словами: «Клянусь Нестором [Лакобой], девочка выздоровеет!» «Именем Нестора не всякому разрешают клясться», – добавляют гостящие у Сандро чегемцы. Но самое главное, что «пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть», – клятва именем партийного босса произвела магическое воздействие! Затем Сандро, по малозначительной причине задерживают у входа в санаторий, где должно происходить торжество, но стоит ему произнести «слова-символы»: «»Бик», Цик, Лакоба» – как волшебным образом появляется его земляк по району и товарищ по ансамблю Махаз, который проводит Сандро непосредственно за кулисы. Впоследствии похвала вождя определяется друзьями Сандро как «благодать», снизошедшая на него с небес, а конфеты и печенье со сталинского стола, щедро разбрасываемые танцорами деревенским ребятишкам, называются «божьим даром».
Поэтому пир с вождями превращается в свидание с богами, и ни о каком «карнавальном равенстве» здесь нет и речи. Н. Иванова справедливо замечает, что «застолье в «Пирах Валтасара» – черная пародия на истинное застолье (…) Вместо свободы, непринужденности за столом правит принуждение и насилие»31. Однако Искандер демонстрирует не просто искажение народной традиции, а плавный переход счастливого праздничного обряда в свою противоположность. В «Пирах Валтасара» карнавальный мир на наших глазах превращается в маскарадный. Знаками этой трансформации становятся традиционно гротескные мотивы маски и превращения человека в механизм: это и лица приглашенных на пир секретарей райкомов западной Грузии, чьи брови застыли в «удивленной приподнятости», это и руководитель ансамбля Панцулая, стоящий перед Сталиным «как мраморное изваяние благодарности», это и дядя Сандро, интуитивно скрывающий лицо под башлыком в знаменитом коленопреклоненном прыжке (а Сталин потом «с выражением маскарадного любопытства» развяжет башлык на голове Сандро), это и Лакоба, который стреляет по куриному яйцу, поставленному на голову повара, и его (Лакобы) «бледное лицо превращается в кусок камня», «и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз». Лишь древняя песня способна ненадолго смыть с лиц «жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все самостоятельнее проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов». Пир, включенный в карнавальную традицию, раскрепощает человека, уравнивая всех в высоком сознании собственного достоинства. Маскарадный пир Сталина использует те же самые древние ритуалы, что укоренены в народной культуре (тосты, аллаверды, свадебная и воинская песни, состязание женщин в танце, а мужчин в стрельбе), для того, чтобы целенаправленно унизить достоинство и в конечном счете лишить человека лица, заменив его на придурковатую и предсказуемую маску.
Сам Сталин на этом пиру предстает как виртуозный церемонимейстер маскарада, сталкивающий лбами соперников (Лакоба против Берия и Ворошилова), управляющий коллективными эмоциями, умело унижающий всех и каждого: «все шло, как он хотел». При этом он сам постоянно меняет маски: то это почтительный к хозяину гость, то легкомысленный шутник, то лучший друг Лакобы, то знаток национальных обычаев, то посланец Москвы («У вас на Кавказе…»), то скромный законник, требующий представить счет за присланные ему мандарины, то деревенский патриарх, раздающий подарки после пира. Но если лица участников пира все прочнее заковываются в маски, то лицо Сталина постепенно все отчетливее выступает из-под череды масок. Сначала это лицо показывается в виде «грозной настороженности», с которой Сталин спрашивает Сандро о том, где он мог его раньше видеть; потом оно выглядывает в тот момент, когда Сталин советует Берия наказать слишком упрямого старого большевика не прямо, а через его брата: «Пусть этот болтун, – ткнул Сталин в невидимого болтуна, – всю жизнь жалеет, что загубил брата». И наконец, в финале происходит узнавание в Сталине жестокого грабителя и убийцы, который не только расправился со всеми своими сообщниками, но и готов был убить невинного ребенка-свидетеля, да раздумал, «чтоб не терять скорости». Вот – его подлинное лицо. Но узнать Сталина способен только Сандро: встреча с вождем пробуждает в нем детские воспоминания об убийце с покатым плечом.
Почему именно Сандро способен распознать подлинное лица тирана? Да потому, что он, великий тамада, не хуже Сталина владеет техникой манипуляции пиршественными эмоциями, не хуже вождя умеет менять маски на своем лице. Вот почему он, хоть и принимает условия сталинского маскарада («поза дяди Сандро, выражающая дерзностную преданность и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы»), но не подчиняется им полностью. Сандро притворяется незрячим, когда в коленопреклоненном прыжке к ногам Сталина, закрывает себе лицо, но на самом деле он единственный (кроме Сталина) зрячий на этом пиру. Сандро замечает все, начиная от сухорукости Сталина и сходства между жирным блеском его сапог с блеском его глаз, вплоть до того, как целенаправленно Сталин подставляет Лакобу под удар могущественных врагов, как мелочно мстит он каждому (Берии, Ворошилову, Калинину, безымянному секретарю райкома) за малейшее неточное, недостаточно униженное движение. Сандро испытывает даже смущение за Сталина: как настоящий (карнавальный) тамада, он никогда бы так не повел пир! В этом смысле Сталин и Сандро действительно равны друг другу, именно в силу этого равенства Сандро и удается сохранить не только зоркость и жизнь, но и достоинство. В контексте названия рассказа именно плут, пройдоха и опытный тамада Сандро, наметанным глазом определяющий точное количество выпитых бокалов, выступает в роли пророка Даниила, сумевшего разгадать зловещий смысл огненных знаков, загоревшихся на стенах дворца во время царского пира.
Именно в «Пирах Валтасара» наиболее явно видно, как тоталитарный порядок опирается на традиционные народные обычаи, «всего лишь» меняя их ориентацию – направляя их на религиозное поклонение власти, против самых робких проявлений достоинства личности. «Пиры Валтасара» объясняют и то, почему именно на долю Сандро выпала роль хранителя народной традиции. Плут в мировой литературе всегда отличался способностью виртуозно менять маски, не совпадая полностью ни одной из них. Именно это качество дяди Сандро оказалось спасительным в процессе насильственного превращения карнавальной народной традиции в маскарадную: предлагаемые режимом маски не уничтожали его лицо, так как игра разнообразными масками и составляет его плутовскую натуру. То, что для других оказалось трагедией, став причиной мучительного отказа от всего самого дорогого и значимого, что заставляло безуспешно ломать себя в угоду времени и власти, – все это дядя Сандро превратил в бесконечный пир, в театральное представление без занавеса и кулис, и благодаря этому спас и себя, и тот народный дух, который его взрастил. Это может показаться проповедью конформизма. Однако Искандер явно предпочитает лукавство Сандро императивному требованию героизма от всех и каждого32, хотя и понимает, что вариант Сандро достаточно уникален, и лирический герой, alter ego автора, явно отказывается быть последователем Сандро в жизни, но – не в искусстве. Победа Сандро над тиранией неповторима, как неповторимо художественное произведение: бесконечные байки Сандро, собранные в книге Искандера, – вот главный документ его карнавального, плутовского, торжества над зловещим маскарадом истории.
Куда более жесткую позицию по отношению к народу и народному конформизму Искандер занял в философской сказке «Кролики и удавы» (впервые опубликована в эмигрантском журнале «Континент» в 1980-м году), которую он, по-видимому, писал параллельно со многими новеллами из чегемского цикла. Станет ли народ свободным, если избавится от тирании? – так можно сформулировать центральный для этой философской сатиры вопрос, который, казалось бы, не вполне соответствовал социально-культурному антуражу эпохи зрелого «застоя». Искандер, с одной стороны, осмыслял горестные уроки всей эпохи застоя, когда гнет тоталитарного режима явно ослабел в сравнении со сталинскими временами, когда исчез страх перед ГУЛАГом, но укрепилась и расширилась психологическая база режима, опирающегося на массовое добровольное рабство. С другой стороны, первая публикация «Кроликов и удавов» в России состоялась в 1988-м году, что поместило это произведение в контекст «перестроечных» споров о будущем России, о выборе свободного пути политического развития и о перспективах этого выбора.
Хотя уподобление жизни животных социальной и даже политической жизни людей напоминает о традиции животной сказки, басни, а в XX веке – известной сатиры Дж. Оруэлла «Ферма животных» структура «Кроликов и удавов» парадоксальным образом возрождает структурную схему волшебной сказки. В начале этой схемы (как показал еще В. Я. Пропп) лежит ситуация нарушенного семейного благополучия (козни злой мачехи, болезнь отца, поиски невесты, украденный ребенок), затем следуют многочисленные испытания центрального героя, символически воспроизводящие ситуацию временной смерти (путешествия в царство смерти), в результате этих испытаний герою удается добыть средства для восстановления семейной гармонии (свадьба), которая одновременно понимается в сказке как основа социального и мирового порядка в целом. енок), затем следуют многочисленные испытания центрального героя, символически воспроизводящие ситуацию временной смерти (путешествия в царство смерти), в результате этих испытаний герою удается добыть средства для восстановления семейной гармонии (свадьба), которая одновременно понимается в сказке как основа социального и мирового порядка в целом.
Кролики и удавы в сказке Искандера вроде бы противопоставлены друг другу, но вся логика выстроенного писателем сюжета указывает на то, что палачи и жертвы образуют семейное единство, и жертвы нужны палачам в той же мере, в какой бывшие жертвы не могут выжить сами по себе, без страха перед палачами. Открытие Задумавшегося кролика, понявшего, что «их гипноз – это наш страх», разрушает это семейное единство, и в результате этого открытия и удавы, и кролики входят в зону временной смерти: удавы буквально умирают от голода, так как кролики, наученные Задумавшимся, отказываются подчиняться гипнозу и откровенно издеваются над удавами. Что же касается кроликов, то и они переживают тяжкие испытания. Король, почувствовав опасность, исходящую от открытия Задумавшегося, «сдает» его удавам – а Задумавшийся, понимая, что его предали свои же братья-кролики, фактически совершает самоубийство, чтобы раскрыть кроликам глаза на коварство короля. Но это не помогает. Король удерживается у власти благодаря кроличьему «рефлексу подчинения», но порядка среди кроликов становится все меньше и меньше: расцветает пьянство, ширится воровство, а главное – пропадает вера в наивысший идеал кроликов – Цветную капусту, выводимую на неких секретных плантациях. А «Король знал, что только при помощи надежды (Цветная капуста) и страха (удавы) можно разумно управлять жизнью кроликов». Исчезновение обеих составляющих порядка приводит не к свободе, а к анархии и хаосу.
В конечном счете, общий кризис разрешается тем, что удав, сосланный на верную смерть в пустыню за то, что он недостаточно квалифицированно «обработал» Задумавшегося, впервые догадывается о том, что кроликов можно уничтожать не только посредством гипноза. Убивая сосланного в ту же пустыню Находчивого кролика (предателя Задумавшегося), пустынник испытывает «какую-то странную любовь… суровую любовь без нежностей», когда сжимает несчастного кролика в своих стальных объятиях. Так восстанавливается «семейное единство» кроликов и удавов. «Гениальное открытие» «удава-пустынника», в соответствии со сказочными законами, делает его новым правителем всех удавов. Одновременно восстанавливается порядок и укрепляется власть короля в царстве кроликов. Более того, прежний «семейный порядок» идеализируется и мифологизируется: и в том, и в другом королевстве идет в рост ностальгический миф о счастливых временах «хипноза».
Какие же ценности испытываются и добываются в момент временной смерти? Благодаря чему восстанавливается «семейная гармония»?
Это способность к предательству (Находчивый, Король, вдова Задумавшегося), это конформистская безответственность («в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением»), это способность совершить убийство (молодой питон, ставший пустынником, а затем правителем). В сравнении с народной волшебной сказкой – все это антиценности. И сказка, соответственно, под пером Искандера трансформируется в антисказку, что демонстрирует глубочайшее разочарование писателя в народной системе ценностей (окаменевшей в «памяти» фольклорного жанра). В искандеровской сказке исчезает последняя надежда на способность народа сопротивляться демагогии и идеологии несвободы. Наблюдая за жизнью своих кроликов, Искандер с горечью убеждается в том, что народу не нужна свобода и правда: эти ориентиры требуют от личности духовных усилий, духовного труда. Тоталитарная же «семья народов», особенно в поздней, застойной, версии отличается именно полным отсутствием каких бы то ни было духовных проблем – точнее говоря, здесь духовное значение придается сугубо материальным категориям. Так, у кроликов явно обожествляется жратва: аллегорией власти в повести становится Стол и Допущенность к Столу, «святой троицей» объявляется морковка, фасоль и капуста, на государственный флаг как символ светлого будущего помещается цветная капуста, а за два кочана обычной капусты в неделю вдова Задумавшегося будет охотно перекраивать память о мудреце и герое в соответствии с нуждами текущего момента. В такой ситуации свобода воспринимается только как право хапнуть побольше, и ни в коей мере не «изменяет природу кроликов»: даже избавившись от страха, они остаются рабами, мечтающими о новой «сильной руке» и получающими ее в конце концов.
Горестное разочарование в «народной правде» превращает «Кроликов и удавов» в своеобразный эпилог чегемского цикла да и всей линии карнавального гротеска в литературе 1970-1980-х годов в целом.